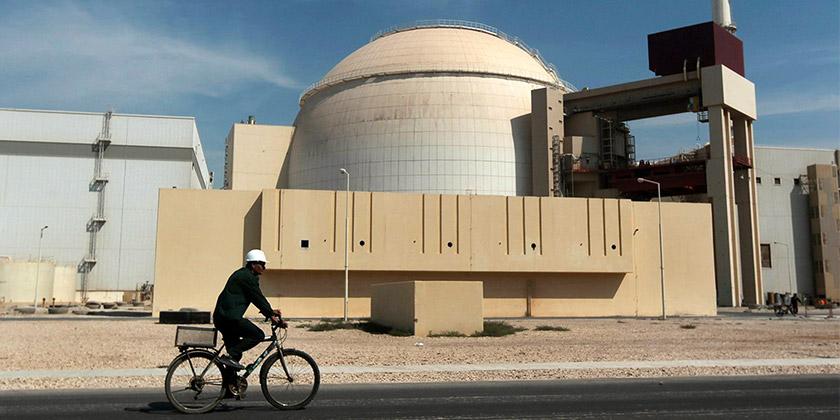Национальная программа социальной помощи: по 10 тысяч шекелей студентам, которые помогают детям
Национальная программа социального воздействия «Перах» («Цветок») отмечает в этом году почетный юбилей – 50 лет. Как она преодолевает вызовы нового времени – войну Израиля и резкий наплыв репатриантов из-за украино-российской войны, и что она может предложить «поколению альфа» (людям, родившимся примерно с начала или середины 2010-х по середину 2020-х годов) – «Деталям» рассказала Мария Гурвич, региональный директор программы «Перах» по Хайфскому округу и Эмек-Израэль.
– Мария, для непосвященных: что такое «Перах» и о каком социальном воздействии идет речь?
– «Перах» – это всеизраильская студенческая программа, призванная помочь студентам во время учебы, а также – предоставляющая индивидуальную и долгосрочную поддержку израильским школьникам, испытывающим проблемы как социального плана, так и с учебой. Это своего рода менторинг, когда к ребенку «прикрепляется» студент, который «всегда для него», в любой ситуации.
– Что получают студенты за свое участие в программе?
– Есть несколько вариантов. Первый – стипендия в 7 тысяч шекелей, за которую они должны отработать 120 часов. Из них 100 часов – с ребенком, включая и индивидуальные занятия, и групповые, еще 20 часов отводится на инструктаж. Второй вариант появился относительно недавно, – стипендия в 10 тысяч шекелей, что практически полностью покрывает оплату учебы за год. Это совместный проект программы «Перах», муниципалитетов и «Мифаль ха-пайс». Здесь, помимо базовых 120 часов, студент должен дополнительно отработать еще 20 часов на благо города (где именно – решает муниципалитет). Таким образом, в первом случае он зарабатывает 58 шекелей в час, во втором – 71 шекель в час, и это, на мой взгляд, весьма ощутимая поддержка!

Мы стараемся идти в ногу со временем. Современные студенты очень четко осознают свои интересы, в том числе финансовые, и готовы их отстаивать. Если 50 лет назад, когда «Перах» только появился, рынок стипендий в Израиле был очень небольшим, что нам давало преимущество, то сейчас он огромен и разнообразен. Поэтому нам нужно стараться быть гибкими и конкурентноспособными, искать новые пути финансирования через наших партнеров, работать над разнообразием проектов и таргет-групп: если раньше студент работал с младшеклассником один на один, сейчас появляются групповые проекты на разные социальные темы. А также мы начали работать с подростками.
– Сколько студентов вовлечены в программу «Перах» в данное время?
– Вся страна разделена на семь округов, в них трудятся более 22 тысяч человек.
– Как в вашу программу попадают школьники, как – студенты?
– Все начинается со школ. Школа составляет список детей, которые испытывают эмоциональные проблемы, либо проблемы со своим статусом среди сверстников, либо сильно отстают в учебе (зачастую все три проблемы идут в одной связке), и передает этот список нам. Мы, в свою очередь, рекрутируем студентов. Смотрим, прежде всего, на их способности к работе с детьми, – не все люди подходят «Пераху», – и, после знакомства с семьей ребенка и визита к нему домой выбираем ему ментора. Как правило, мы стараемся учитывать индивидуальные пожелания, но есть и изначально нерушимые правила: с младшеклассницей может работать только студентка, с младшеклассником – и студентка, и студент. Как правило, дети хотят ментора своего пола, но, поскольку у нас явный гендерный перекос (70% участников программы – девушки), приходится убеждать малышей, что они так же могут гонять мяч и обсуждать «Майнкрафт», как и парни.
– Израильское общество крайне разнообразно. Какие его сектора участвуют в «Перахе»?
– Все, включая арабский и ультрарелигиозный. Причем, если интерес к «Пераху» среди студентов в еврейском секторе немного снизился, в результате возросшей конкуренции на рынке стипендий, то в арабском секторе он остается высоким, причем двусторонне: количество запросов от арабских школ/семей на такую помощь тоже остается высоким. А в среде «харедим» имеет место дисбаланс: огромный спрос со стороны семей на получение менторинга, но не всегда этот спрос удается удовлетворить.
– В последние годы, с начала войны в Украине, в Израиль прибывает множество детей как из Украины, так и из России. Как «Пераху» работается с ними?
– Со времен алии 90-х во всем, что касается абсорбции детей, произошли кардинальные изменения. В этом есть как и однозначные плюсы, так и определенные вызовы. Я сама – типичный представитель того времени, и от своего лица могу сказать, что идея интеграции нам если не навязывалась, то очень активно поощрялась. Не разговаривать на иврите считалось постыдным среди детей, мы все старались как можно быстрее освоить язык. А сейчас общество куда более терпимо к иноязычности маленьких репатриантов. С одной стороны, это прекрасно, с другой – мы сталкиваемся с совершенно новым явлением, когда дети-репатрианты годами не могут «переключиться» на иврит, обосабливаются внутри групп «своих» по языковому признаку. Плюс имеет значение общий опыт – допустим, бегство от войны тоже способствует «кучкованию».
Мы выступаем за мягкую интеграцию. Мы не заставляем наших студентов говорить с подопечными на иврите. Самое главное – установление контакта. И, если его возможно установить только на русском языке – пусть так и будет. В отдельных случаях для отдельных районов мы специально ищем студентов, знающих русский. Иврит вводится креативными методами. Выбор языка – это в том числе и наше отражение к своему месту в обществе. Студенты-менторы часто организуют для детей-репатриантов дни рождения в школе, на которых те внезапно оказываются в центре внимания. Их замечают, с ними считаются, дарят подарки, рисунки. Если происходит психологическая интеграция, ученик чувствует себя причастным, языковая интеграция легче подтягивается.
Расскажу забавный случай, произошедший на днях: один мальчик сказал что-то колкое на иврите своему другу, и директор школы, вместо того чтобы сделать ему замечание, очень обрадовалась: ведь этот мальчик, как и его друг, несколько лет не хотели разговаривать на иврите вообще! Наш студент смог найти к ним подход, и вот – процесс пошел, пусть и не в конвенциональной форме.
– Сейчас в стране идет война. Как вы реагируете на этот вызов?
– К счастью, «корона» научила нас быстро реагировать и, чуть что – перестраиваться в режим онлайн. В нашем районе, слава богу, обстрелов не было, так что мы относительно быстро вернулись во фронтальный режим.
- Читайте также:
- Дети – это оружие
- «Фауда» против Путина: израильский снайпер на украинском фронте
- Как цивилизация становится заложницей террористов
Подход к обсуждению трагедии очень деликатный, у всех детей – своя история: у кого-то родители в «милуиме» (на резервистской службе), у кого-то погибли знакомые. Мы за индивидуальный подход, который учитывает потребности каждого ребенка. Есть дети, которые сами хотят говорить об этом. Есть дети, которые боятся, и мы учим студентов, как к этому подойти, как вести беседы, какие вопросы задавать. Главное, что мы можем дать детям – чувство безопасности, через взрослого человека. Обеспечить стабильность и детям, и студентам – это самое важное. Последние тоже боялись, что программа закончится и они больше не смогут оплачивать учебу.
– Какие истории успеха особо запомнились за последнее время?
– Таких историй десятки, расскажу несколько. У нас недавно была девочка, к которой студентка ходила на продленку. Бывает, что в доме у детей нет условий для занятий, иногда все усугубляется проблемами, вроде насилия в семье. Девочка была очень замкнута, полностью игнорировала студентку. Та пробовала печь с ней торт, но девочка вместо того, чтобы поставить торт в печь, бросала его на пол и убегала. Полное отторжение и нулевое доверие к людям. Студентка продолжала приходить и каждый раз повторяла: «Я здесь, и я здесь для тебя. Что ты любишь? Давай сделаем то, что ты хочешь».
Мало-помалу девочка стала присматриваться к студентке, и со временем научилась доверять. А в конце года подписала ей открытку с огромным сердцем. Это особо трогательно, потому что до участия в нашей программе она практически не умела писать.
Бывает, студенты сталкиваются с вопиющей бедностью подопечного ребенка – так, один наш студент увидел, что мальчик ходит в порванных кроссовках зимой, в дождь. И, хотя он не обязан был заниматься этим вопросом, студент «выбил» из соцотдела местного муниципалитета подарочные купоны, на которые ребенка одели и обули.
– Вы отслеживаете дальнейшую судьбу ваших воспитанников?
– Это не наша задача, но бывает, что люди сами пишут нам спустя много лет. Я вспоминаю письмо репатрианта по имени Эмиль, из Ганей-Тиквы, который был нашим подопечным в начале 90-х. Он заканчивал докторат в Институте Вайцмана и готовил речь с перечнем имен тех, кто помог ему достичь того, чего он достиг. Он разыскивал своих менторов из «Пераха», чтобы лично сказать им, что они были единственными, кто в него верил: его семья не функционировала, оценки были – сплошь «неуд», и, по его признанию, «учителя его считали идиотом». Только менторы были рядом с ним, укрепили его веру в себя. Он благодарен им по сей день.
Татьяна Воловельская, «Детали». Фотографии предоставлены проектом «Перах», публикуются с разрешения родителей √
Будьте всегда в курсе главных событий: